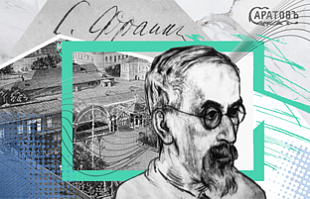Проект реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации

Papa was my link to so many worlds
He brought me to Old Russia, which he had had to leave as a two-year old, and where he had briefly helped his brothers fight the Bolsheviks in the form of stinging nettles with sticks behind the house. This was the Russia he knew almost only from abroad, made up of memories and tales, some real, others less so perhaps, and stained with a lifelong sense of homesickness. Of course I grew up with his books and samovars and icons around the house, but it was in the way that anything ceremonial or traditional or religious was always only ever Russian that was most telling: a focus on the holiness of the home, and usually an evening meal of many little plates and tiny silver chalices of vodka. Although he spent almost his whole life in Germany his soul remained Russian, he would say.
He took me also to pre-war Berlin, in which he made his football games and scouts meetings, bicycle rides and ice cream outings seem to glow in hazy wistfulness, as though he himself had not quite decided what to make of them; and he would remind me always in the next sentence that Germany was not just "those twelve years" which had followed (four of them he had spent in Berlin), but to remember the poets and composers and philosophers that came before, and that hopefully will come again—Land der Dichter und Denker.
And Papa told me about London, during the war, when his parents were somewhere in France, and he was supposed to be learning to paint, but was too worried for their safety, and his interest in art suffered and eventually dwindled; about the times he spent in Golders Green at his sister's house, where they hid night after night in the bomb shelter he helped build in her garden. And about how he loved London and how the English were so kind and welcoming but reserved and never quite made him feel at home.
Papa was, in a broader sense, my connection to the first half of the 20th century, to a pre-Modernist world, one that was both simpler than mine, but also infinitely more intricate and elaborate; a world which ended up being knocked about, ruptured and finally shattered by the evils of totalitarianism and war—his war, as he called it. It was a world that had formed him and ended just as he was coming of age, and it was a world I longed for myself, as it had made him into who he was: a gentleman of the old regime… and that's really what I wanted to be.
Papa was an odd mix: reserved and well-mannered, he was quick-witted and fast-paced, eloquent and at ease in many cultures; he was streetwise, spiritual, superstitious, politically incorrect, and a lady's man—dashing in his own old-school way, with half a pinch of chutzpah. He really was the best whistler I've ever known, to this day, both to a tune as well as with his forefingers to catch someone's attention. He loved anecdotes and jokes, which he told in many languages and repeated often. He could lift up his cap onto his head from the floor with a foot and much élan, or tie a knot in a cherry stalk in his mouth without taking his eyes off you, or else flip a stack of beermats with the back of his hand only to catch them with a cheeky smile, adding one more each time. Papa loved good food, and a drink or two, and he didn't mind being a bit silly or standing out. You could say he was bohemian without effort, as though he hadn't quite noticed what it is middle class people usually do. Although he was his father's son and naturally read books, he was no intellectual, loved football, and tennis, as much as fine art and strong coffee, Greek or Italian. But for all his worldliness he could be at the same time somehow naïve, gullible, as though if only by believing people were good they really would be.
Papa reminded us almost every other morning about "the most important thing", to be kind, to remember people, their saint's days and birthdays and death days, and that although life is odd and mysterious and sometimes painful, it is beautiful. He would tell us from time to time that God does exist, and loves us; then he would take another sip from his glass of tea, à la russe, glancing at us over his Süddeutsche Zeitung, Bayern 4 on the radio. Often he reminded us of our background: not to forget Russian, not to forget we are one quarter Jewish. In fact, he loved the idea that he had brought into this world children with mixed genes and a multicultural heritage, as if that way he had finally proved Hitler wrong.
In the summers, on Cyprus, our days together were slow and uneventful, but we looked forward to them all year long with all our hearts. We adored our bare and minimalist existence on the island, Papa's Biblical Island, where we got to spend two whole months together every year. It's where he taught me to drive, at 12 or 13, letting me make small errands in the village by car whenever I wanted. He'd spend his day in the shade of our veranda, his shirt open and fly swat in hand, listening to the BBC, or else in the tavern by the beach with a beer and a plate of peanuts, while my brother and I played in the sea until it got cold, and he would take us home.
My youngest daughter was born this year, 100 years after her dedushka—how I wish they could have met. But somehow Papa lives on with us, even here in Canada, in his stories, and in the habits and traits I have been privileged enough to inherit from him.
Вечная память—memory eternal!
Pavlik Frank
Montreal, 25 July 2020
Папа показал мне столь многие миры
Он открыл для меня старую Россию, которую он был вынужден покинуть в возрасте двух лет, и где он помогал своим братьям сражаться с большевиками, воюя с зарослями крапивы на заднем дворе. Эту Россию он знал издалека, она была соткана из воспоминаний и рассказов, некоторые из которых были реальны, другие, возможно, нет, и окрашены чувством тоски по родине, которую он пронес через всю жизнь. Конечно, я рос в окружении его книг, самоваров и икон, но не только в них, а в ритуальности, традиционной, религиозности ощущается его "русскость", в святости дома, в привычных ужинах с большим разнообразных закусок и крошечных серебряных рюмочек водки. И он говорил, что пусть он прожил почти всю жизнь не в России, его душа осталась русской.
Он открыл для меня также довоенный Берлин, в котором он играл в футбол и ездил на скаутские сборы, катался на велосипеде и ел мороженое. Он погружался в эти воспоминания как в туман, будто он сам не решил окончательно, что с ними делать. А следом он непременно напоминал мне, что Германия – это не только «те двенадцать лет», которые последовали (четыре из них он провел в Берлине), но и поэты, и композиторы, и философы, которые были в прошлом – и которые, будем надеяться, появятся вновь» – Land der Dichter und Denker (страна поэтов и мыслителей – пер. с нем.).
И еще Папа рассказывал мне о Лондоне во время войны, когда его родители уже переехали из Германии на юг Франции, а он должен был учиться живописи, но слишком беспокоился об их безопасности, так что его интерес к искусству в конце концов иссяк. О времени, которое он провел в лондонском районе Голдерс Грин в доме своей сестры, где они ночь за ночью прятались в бомбоубежище, которое он сам помогал построить в саду. А еще о том, как он любил Лондон и как добры были англичане и гостеприимны, и в то же время сдержанны – и он никогда не чувствовал себя там как дома.
Папа был, в более широком смысле, моей связью с первой половиной 20го века, с временем домодернизма, которое было одновременно более простым, чем мое время, и бесконечно более запутанным и многогранным. Мир, который пошатнулся, раскололся и разрушился под тяжестью злодеяний тоталитаризма и войны – его войны, как он говорил. Это был мир, который сформировал его и прекратил свое существование, как только он достиг зрелости, и это был мир, которого я желал для себя, так как именно этот мир сделал его тем, кем он был: джентльменом старого времени – тем, кем я на самом деле хотел быть.
В Папе была чудная смесь: сдержанный, с хорошими манерами, он был сообразителен и динамичен, красноречив и вел себя непринужденно с людьми любой культуры. Он был проницательным и суеверным, одухотворенным и неполиткорректным, и к тому же еще и дамским угодником – бравым, в духе старой школы, с щепоткой дерзости. Он действительно свистел лучше всех, кого я знал до сегодняшнего дня, как под мелодию, так и засунув пальцы в рот, чтобы привлечь чье-либо внимание. Он любил анекдоты и шутки, и рассказывал их, и повторял часто, на многих языках. Он мог подкинуть шляпу ногой и поймать головой, или завязать узел на стебельке вишни во рту, не отводя от тебя глаз, а еще переворачивал стопку подставок под пивные кружки лишь тыльной стороной ладони и ловил их с дерзкой улыбкой, каждый раз добавляя еще одну. Папа любил хорошую еду и выпить стакан-другой, и он не боялся выглядеть глупо и выделяться из толпы. Можно сказать и так: он был богемным, не прилагая к этому никаких усилий, будто он не вполне замечал, как ведут себя обычно люди среднего класса. Хотя он был сыном своего отца и, разумеется, читал книги, он не был интеллектуалом, любил футбол и теннис так же сильно, как искусство и крепкий кофе, греческий или итальянский. Но при всей своей светскости бывал порой наивен, чересчур доверчив, как будто бы его вера в доброту людей действительно могла сделать их хорошими.
Папа напоминал нам почти каждое утро «о самой важной вещи»: быть добрым, помнить людей, их именины, дни рождения и кончины, и о том, что жизнь, несмотря на то, что она странна, таинственна и порой приносит боль, все же прекрасна. Он рассказывал нам время от времени, что Господь существует и любит нас. А потом делал еще один глоток чая «à la russe», посматривая на нас поверх газеты Sueddeutsche Zeitung, по радио - станция классической музыки Bayern 4. Часто он напоминал нам о нашем происхождении: не забывать русский язык, не забывать, что мы частично евреи. На самом деле, ему нравилась идея, что он дал этому миру детей со смешанными генами и мультикультурным наследием, как будто таким образом он окончательно доказал, что Гитлер был не прав.
Летом, на Кипре, наши дни были медленны и небогаты событиями, но мы ждали их в течение всего года всем сердцем. Мы обожали наше простое и минималистичное существование на острове, папином Библейском Острове, где мы каждый год проводили вместе два месяца. Именно там он научил меня водить машину, когда мне было лет 12 или 13, позволяя мне совершать маленькие поездки по деревне на машине, когда бы я ни захотел. Сам он проводил день в тени нашей веранды, с расстегнутой рубашкой и мухобойкой в руке, слушая радио Би-Би-Си, или в таверне на пляже, с бокалом пива и тарелкой арахиса, пока мы с братом играли на море и не становилось холодно, и он не уводил нас домой.
Моя младшая дочь родилась в этом году, через 100 лет после своего дедушки – жаль, что они не встретились. Но каким-то образом Папа продолжает быть с нами даже здесь, в Канаде: в его историях, его привычках и чертах, которые мне повезло унаследовать от него.
Вечная память – memory eternal!
Павлик Франк,
Монреаль, 25 июля 2020 года