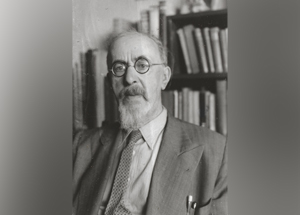Проект реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации

Лекции и выступления
«Интеллигенция и революция» в творческом сознании космистов 1920-х годов
Дорогие друзья, поскольку мы с вами находимся в стенах универсальной научной библиотеки, мне хочется от друзей библиотеки Фёдорова, в которой я тоже работаю, несколько книг преподнести.
Я постараюсь повернуть наш разговор к эпохе начала двадцатых годов. Буду я говорить о том, как интеллигенция и революция представала в сознании интереснейших, приятных мыслителей 1920-х, 1930-х годов.
Итак, во-первых, кто такие эти наши герои персонажи? Валериан Николаевич Муравьёв. Древний род Муравьёвых, в котором, как вы знаете, были декабрист Муравьев-Апостол и Андрей Муравьев, писатель, знаменитый автор «Путешествий по святым местам русским». И граф Муравьев, подавлявший восстание в Польском крае, он заявлял, что он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. То есть, совершенно разные люди, разных вер, разных убеждений. Тем не менее, их одушевляло одно, их одушевляло служение России, то, о чём говорил Тютчев, характеризуя как бы смысл дела: служить тогда, когда даже нынешние действия власти идут в разрез с твоими идеями и идеалом. То есть принципиальной для него (В.Н. Муравьева) была невозможность эмиграции, это человек, который остался в Советской России, хотя и пал потом под жерновами террора. Надо сказать, что он сам дипломат, и, кстати, Февральская революция была некой высшей точкой его служебной карьеры, потому что он был начальником политического кабинета министра иностранных дел. И вот в статьях, печатавшихся на страницах еженедельника «Русская свобода», сначала у него было романтическое отношение к революции, что, собственно, объединяло многих деятелей, как раз именно русскую интеллигенцию, тех самых интеллигентствующих и строящих воздушные замки. Потому что рисует нам картинку в духе славянофильства, в духе почвенничества. Вот эта Февральская революция – это путь к Четвертому Риму, путь новой соборности, всечеловечности и так далее. Революция понимается, как начало вселенского обновления. Такой интеллигенский идеализм, он, конечно, демонстрирует особенное отношение к народу. Вот в такой утопической эйфории он будет прибывать не долго. Уже в первый месяц после Февраля, он разочаруется в путях революции. В статьях на страницах «Русской свободы видно», как этот пафос его постепенно снижается, как он указывает на всплески жестокости и разгула в рабоче-солдатской и крестьянской среде – с одной стороны. С другой стороны – на низкий потолок партийных лидеров, интеллигентов, которые куда-то ведут, а куда? Указывает на дикость и подмену – пришла революция в светлых ризах, но воскресло в кровавом бунте и грабеже древнее русско-татарское воровство. А когда приходит октябрь, то, он, все-таки государственник по природе, по внутренним своим убеждениям, видит этот развал страны, и он возмущённый антинациональной политикой большевистских вождей, вообще начинает собирать на это белую рать. Он едет в ставку, он едет к Деникину, пытается что-то сделать и в какой-то момент понимает, что сделать ничего нельзя, потому что у вождей белого сопротивления разные идеи и идеалы. И вот отсутствие этого целостного идеала и развития, оно как-бы проваливает это движение. Тогда он возвращается в Москву, на страницах еженедельника «Утро России» печатает серию статей о собирании России. И в конце концов на страницах сборника «Из глубины» он старается осмыслить тему «Интеллигенция и революция», то есть попытаться дать некий диагноз совершившемуся в России. Его главный тезис: целостное, социальное действия, оно должно как-бы примерить мысль и жизнь.
Невозможно влияние европейской рационалистической мысли, основа которой – отвлечённое умствование, размышление, оторванное от действия, которое деформирует чужую жизнь. Вот это то, что завело этих самых теоретизирующих, так сказать интеллигентов, в конце концов, в лоно Марксизма и затем, так сказать, привело к революции. При этом в народной среде, вот это очень важно, он видит некое чаяние правды и праведного, справедливого строя жизни. С этой точки зрения очень интересно рассматривает народные искания, историю русского сектантства, то есть искания правды, вот этой последней правды, и это оправдывает, собственно, движение народных масс в революции. При этом он видит изнанку, говоря о том, что да, с одной стороны – чаяние правды, а с другой стороны, человек как существо кризисное, противоречивое, в дуще которого, как говорил Достоевский, дьявол с богом борется. В сущности этот революционный катаклизм, он стал для народных масс оправданием тех низменных инстинктов и тёмных чувств, которые бьются в ней, как они бьются в каждом смертном человеке. Более того, он обвиняет интеллигенцию, с одной стороны в черном умствовании, с другой стороны – в лжеидеалах, которые она исповедует. И главное в том, что она верит в чистоту своих схем: сделав революцию руками народа, она умыла руки, сказала, что я дистанцируюсь от этого города, этот переворот хотели не мы. Мы хотели совсем другого. И вот он сравнивает отношение интеллигенции и народа к революции подобно отношениям Ивана Карамазова, главного идеолога преступлений, он говорил: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!» Берёт и осуществляет. А потом Иван Карамазов говорит, что не хотел этого, а ему Смердяков говорит – ты главный убийца и есть. И вот он сцену братьев Карамазовых проецирует на отношения народа и интеллигенции, он говорит что русский народ, появившийся перед нами в образе Смердякова и сделавший злое дело, имеет право сказать интеллигенции перед трупом бездыханной России: «А ты главный убийца и есть».
И более того, он говорит, что народ в провинции проверен интеллигенцией. Он судил её действием. И вот это действие вскрыло главный ущерб идей, которые как последнее разрешающее слово несла народу интеллигенция, то есть обнажил главное препятствие для социальной революции в невозможности строить совершенный закон при несовершенных людях. Вот это и есть ахиллесова пята идей революции и социализма. Он опирается на русскую религиозно-философскую традицию, начиная от Достоевского, Булгакова, Бердяева и т.д. И вот этот разрыв цельных средств, он как бы вот здесь, собственно, обнажил. При этом он начинает с резкой критики революции, с попытки некоторого сопротивления, потом с констатации вины интеллигенции, а потом у него начинается какая-то внутренняя инфлексия, которая связана, собственно, с тем, что большевистская власть, так сказать, начав вот с этого распада страны, она в конце концов становится собирателем России. И вот это как бы меняет его отношение к революции. Причём интересно, что в двадцатом году, он был арестован по делу тактического национального центра. Вот уже в протоколах допросов 1920 года у него совершенно другая точка зрения нежели в сборнике «Из глубины». А еще раньше у него начинается диалог с Троцким. Он как спец был привлечен на службу новой властью. Он пошел абсолютно сознательно. Работал в венно-исторической комиссии по изучению опыта Первой Мировой войны, и вот там, на заседании одной из комиссий, начинается его интересный диалог с Троцким. О чём? Главное – о том, что такое русская революция в отношении к русской истории. То есть в отличие от очень многих представителей русской интеллигенции, русско-философской мысли, которые как Мережковский или Иван Ильин, не приняли революцию, и как ранние скажем евразийцы, которые говорили, о том, что революции это абсолютно чуждое народу явление, он пытается увидеть какую-то преемственность исканий большевиков, строящегося нового мира с исканиями и путем России в ее истории. И вот тут он говорит, у него появляется формула, что Третий интернационал – это как бы оскорбленный, десекуляризованный Третий Рим. Это идея собирания России, идея некоего нового строя жизни. Но он говорит о том, что, собственно, именно, потому что здесь только Третий интернационал, пафос третьего интернационала и марксизма проигрывают в сравнении с целостным идеалом религиозного действия, который выдвинул тот же Сергей Булгаков в концепции христианского социализма, христианской политики. Как Достоевский говорил: «наш русский социализм есть всесветное единение во имя Христово». То есть да, но на каких путях? Да, но на каких основаниях? Да, но зачем выбрасывать Бога из этой картины мира? Да, но зачем строить на путях России диктатуру? И вот он говорит о том, что тактически мы готовы с Вами сотрудничать, но в главном, в конечных целых истории этот идеал социализма не дотягивает. И собственно главный пафос его мысли и жизни в том, чтобы расширить горизонт строительства новой власти. Интересно, что вот в этом тезисе Третий интернационал – как приемник Третьего Рима. Вот и в своём как-бы сотрудничестве с новой властью, лицом к этому Советскому строительству Муравьёв выдвигает тезис о взаимном движении власти и интеллигенции навстречу друг другу, о необходимости участвовать в строительстве.
Интересно, что ту же, близкую точку зрения будет высказывать второй деятель этого тройственного союза – Николай Александрович Сетницкий, экономист, статистик, юрист, правовед. Он, кстати, занимался в петербургском университете. Главная тема, которая его занимает в десятые годы, это тема конечного идеала и соотношение в истории, таких дробных идеалов. Целостного идеала, к которому мы стараемся приблизиться, пока не можем воплотить. Это в общем важный тезис, потому что он разворачивается для него в полемике с профессором Новгородцевым, который печатает в 1910-е годы работу «Об общественном идеале», где разворачивается критика, где он критикует и марксизм, и социализм, и говорит о том, что вообще идеал в истории невоплотим, поэтому, что вы хотите правильный строй жизни устраивать, вы хотите рая на земле? Рая на земле не может быть. Идеал – это такая мечта, к которой мы приближаемся, она от нас удаляется. Примерно как Сизиф, который катит камень на гору, а потом этот камень падает, и мы опять ползем: это наша история, то есть колоссальный разрыв идеала и реальности. И вот Сетницкий против этого восстаёт. Он формулирует новую теорию идеалов, и он говорит так: «все те идеалы они дробные или по цели, или по средствам». С одной стороны они дробные в ущерб, конечно, да, но с другой стороны – это идеал. Это значит, что каждый из них, отражает часть целостного идеала, и это значит, что и в революции, и в социализме тоже есть своя правда.
Интересно, что в начале двадцатых годов, а он жил, кстати, в Одессе и в Крыму, они, так сказать, наблюдали чехарду властей. Кстати, и разгул жестокости, он тоже видел, и видел, что такое народ, и каким он может быть в периоды полного озверения, что кстати его в народе не разочаровало. Собственно имение их на Украине… Там был такой замечательный эпизод, когда он вместе со своей женой пришли в имение, которое уже было захвачено, просто чтобы забрать какие-то вещи и решили в этом имении переночевать. Причём там были и любящие крестьяне, представители народа, которые охраняли, они спрятали их. И вдруг прибежала кухарка и сказала: «мужики вас будут убивать». То есть другие крестьяне пришли на них с вилами. Причём там был мальчик, которого они учили грамоте. Понимаете такие вот там сюжеты и драмы разворачивались.
И тем не менее в начале двадцатых годов он пишет, в такой как бы поэтической, стихотворной форме он пишет диалог поэта и писателя об эмиграции, как разговор об этом белом исходе, знаменитом Врангелевском исходе из Крыма, когда значит, как поэт говорил: «Ну вот эти вот, так сказать все стены интеллигенции уезжают в эмиграцию». Никого не остаётся. Вот так сказать они уедут, а потом вернутся. И вот тогда начнётся настоящая жизнь. А поэт ему возражает: а почему вы не разделяете ответственность за то, что происходит? И он говорит: это совсем не так, эта власть ненадолго. Дальше разворачивается диалог и возникает главный вопрос: «А что вообще тогда делать»? Поэт тогда произносит резкую критику, он говорит: «Интеллигенция должна была быть солью земли». Но иссалившейся солью, никто не назовет ее уже соленой, потому что ни своими идеями, ни своими социальными действиями, она не стояла на высоте со своим долгом.
И что же теперь, вот что перед новой Россией? «Ваша соль, что сделала она? Взгляните вот от моря и до моря, земля заражена миллионами трупов, гниющих, отравляющих почву и воздух. Ваша соль была не в силах предотвратить войну». Это ещё один из упрёков, который бросают обиду вот эти вот философы-космисты русской интеллигенции. Мы знаем, как они представители русско-религиозной интеллигенции, философской общественности, приветствовали Первую Мировую войну. Какая была эйфория. «Предотвратить войну, ее она приветствовалас упованием. Бессильная в себе она была бессильна сдержать распад, если это соль, то иссалившаяся, а её выбрасывают тут же». Тогда спрашивают: «а что тогда делать?». Тут он говорит: «Вы интеллигенты, считаете себя приглашёнными на пир богов!». Однако «не пир, не празднества судятся грядущим, а тяжкий труд при нём, труд непрерывного восстановления всего, что расточалось в веках». То есть выдвигается идея сотрудничества, труда, строительства. Да, с тем, что внутри себя носишь образ целостного идеала, более того, всеми возможными силами пытаешься утвердить его в истории и донести до вот этих строителей нового мира. И вот это главный их пафос. И они в 1920-е годы уже оказались в Москве, и третий человек, который к ним присоединяется – Александр Константинович Горский, они пытаются выстраивать целостный идеал. Горский тоже очень интересный. Сам из русских религиозно-философских кругов, выпускник Московской Духовной Академии, он живёт в Одессе до четырнадцатого года. И вот уже когда вот этому самому вопросу, который так раздирал всех в революцию, вопросу о богатстве и бедности он противопоставляет вопрос о смерти и жизни. Если вопрос о богатстве и бедности разделяет, то вопрос о жизни и смерти объединяет. И он в девятнадцатом году делает интереснейший разбор поэмы «Двенадцать». Где он говорит о том, что вот это самое так сказать слово Блока, когда он говорит о том, что: «И дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины», – что это такое? Я опрашивал, так сказать, очень многих из своих собратьев в Одессе, интеллигентных, умных и никто не мог сказать, что здесь имеет в виду Блок. А Блок здесь имеется в виду землятрясение в Мессине и Лиссабоне, когда погибли тысячи людей. И Блок в 1910 году пишет статью «Стихия и культура», где он как раз бросает в лицо интеллигенции, упрёк в том, что вы люди культуры, вы ничего не можете поделать со стихией. Вы как бы бессильны перед собственной стихией. Горский делает как-бы скачок вот от этого тезиса Блока к поэме «Двенадцать», цепляет эти стихи, где идут эти двенадцать человек сквозь пургу и вьюгу, где они пытаются стрелять в эту пургу. И как можно построить новый мир, пока стихия и вьюга бушуют на пространстве мира? А дальше город в Поволжье, в котором отчаявшиеся люди доходили до людоедства. Тот же Валериан Муравьёв, у него есть даже несколько рассказов, посвящённых людоедству в Поволжье. Из-за чего произошёл бунт? Не только из-за социальной разрухи, но и из-за засухи. Опять же, стихийная сила невозможна, значит нужно что-то с этим делать. И они вместе с Николаем Сетницким в Одессе выпускают однодневную газету «На помощь», где они выдвигают лозунг, который звучал, кстати, у Горского в сборнике «Вселенское дело» еще перед Первой Мировой войной, в нем ее «Пролетарии всех стран соединяйтесь», а «Смертные всех стран, всех народов соединяйтесь».
То есть они меняют этот ракурс, взгляды социальные на бытийно-онтологические. Это очень характерно для первых революционных лет, об этом уже, собственно, много написано. Вот Светлана Григорьевна Семёнова – автор замечательной книжки «Русская поэзия и проза 1920-х – 1930-х. Поэтика – Видение мира – Философия» – в ней говорит о строении первых революционных лет. Собственно революция социальная мыслилась какбы ступенью к другой бытийной революции. Потому что человечество овладеет природой, победит космос, вообще победит смерть, – эти темы звучали.
И собственно пафос, я уже завершаю, Сетницкого, Муравьёва в 20-ые годы, собственно, именно в том, чтобы утвердить этот идеал, чтобы утвердить новое понимание труда, планетарно-космического преобразования. Труда, в котором уже нет тех, которые пользуются плодами чужого труда, как эти интеллигенты-белоручки. Это идея целостной подготовки культуры, которая ведёт к организации воздействия. Последнее, что я скажу, в философской мистерии Муравьёва «София и Китоврас» он рисует как-бы палитру народных исканий: там у него есть интеллигентские искатели, которые ищут царствие Божие на земле, и есть матросы, которые ищут этот самый идеал царства правды на путях революции. Есть сектанты… Разные, разнонаправленные чаяния, социальные идеалы. И как бы вся эта истерика, попытка проверить на прочность эти идеалы. Вот финальная серия, когда София, душа мира, она собирает всех, они собираются все вокруг Софии. И вот эти интеллигенты и рабочие, и матросы, вместе со всеми они засыпают пропасть, отделяющую наш мир от вот этого как бы царского ареала – идея вот такого вселенского, идея, которая объединяет всех, и народ, и интеллигенцию.